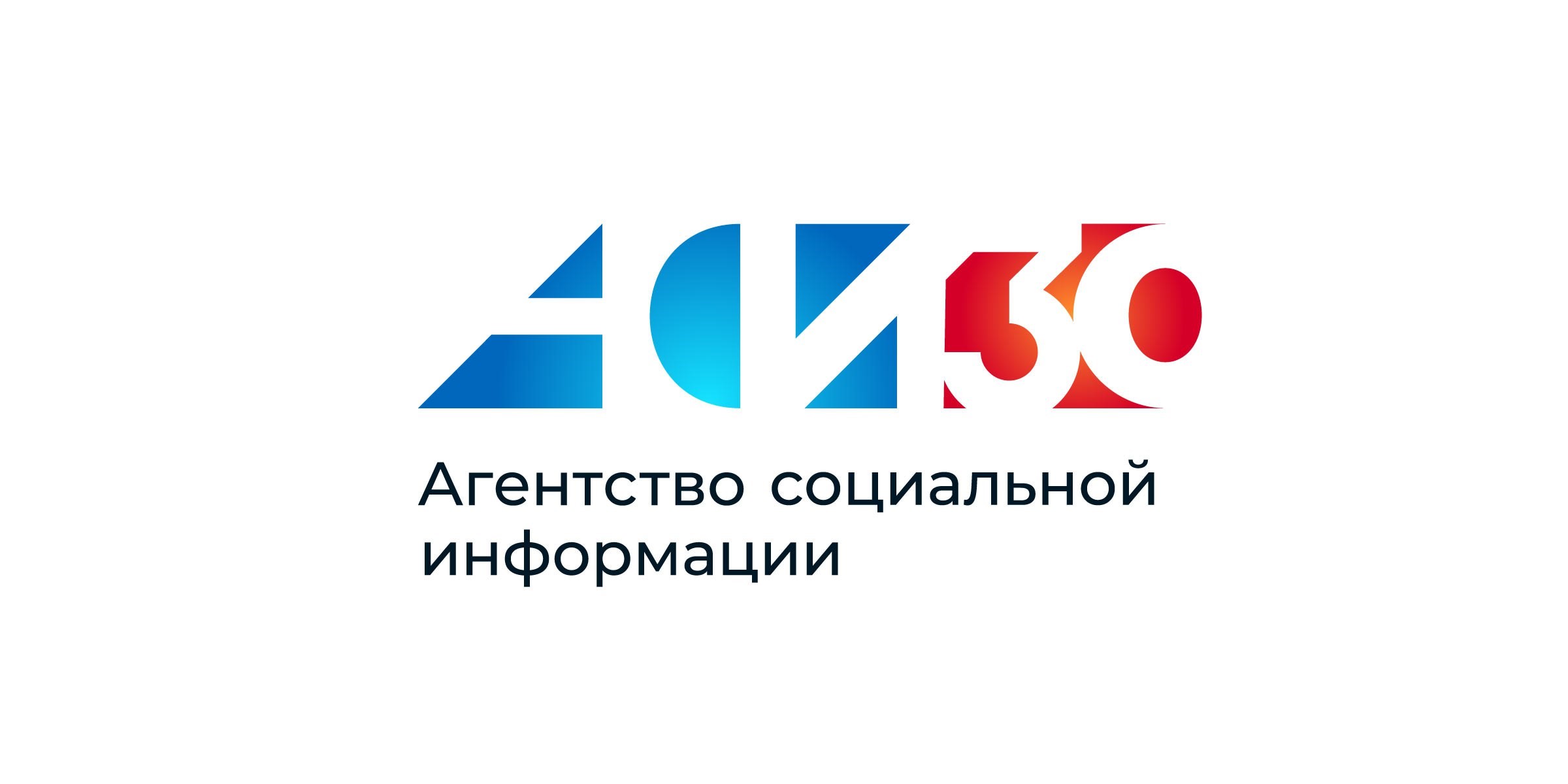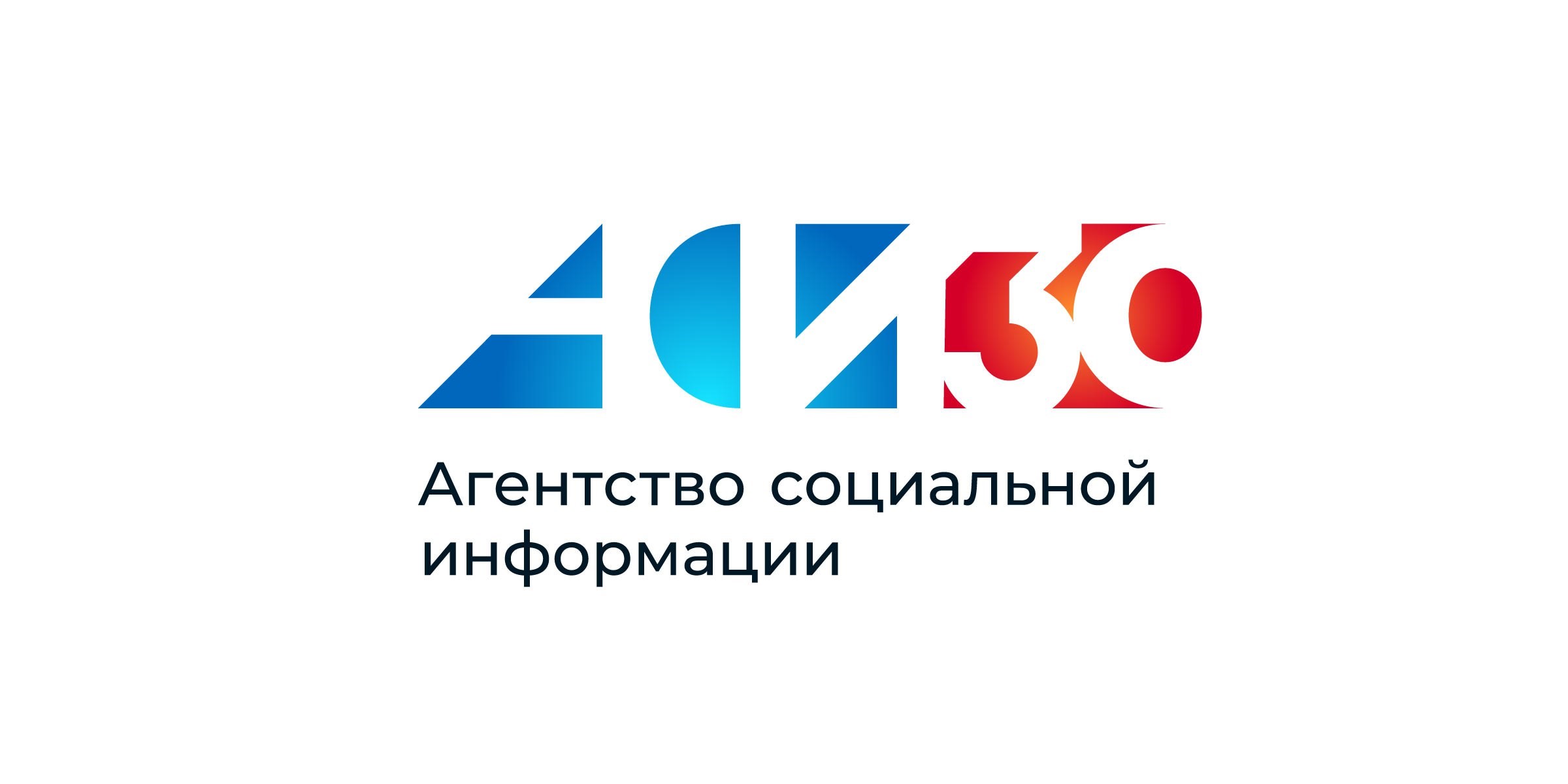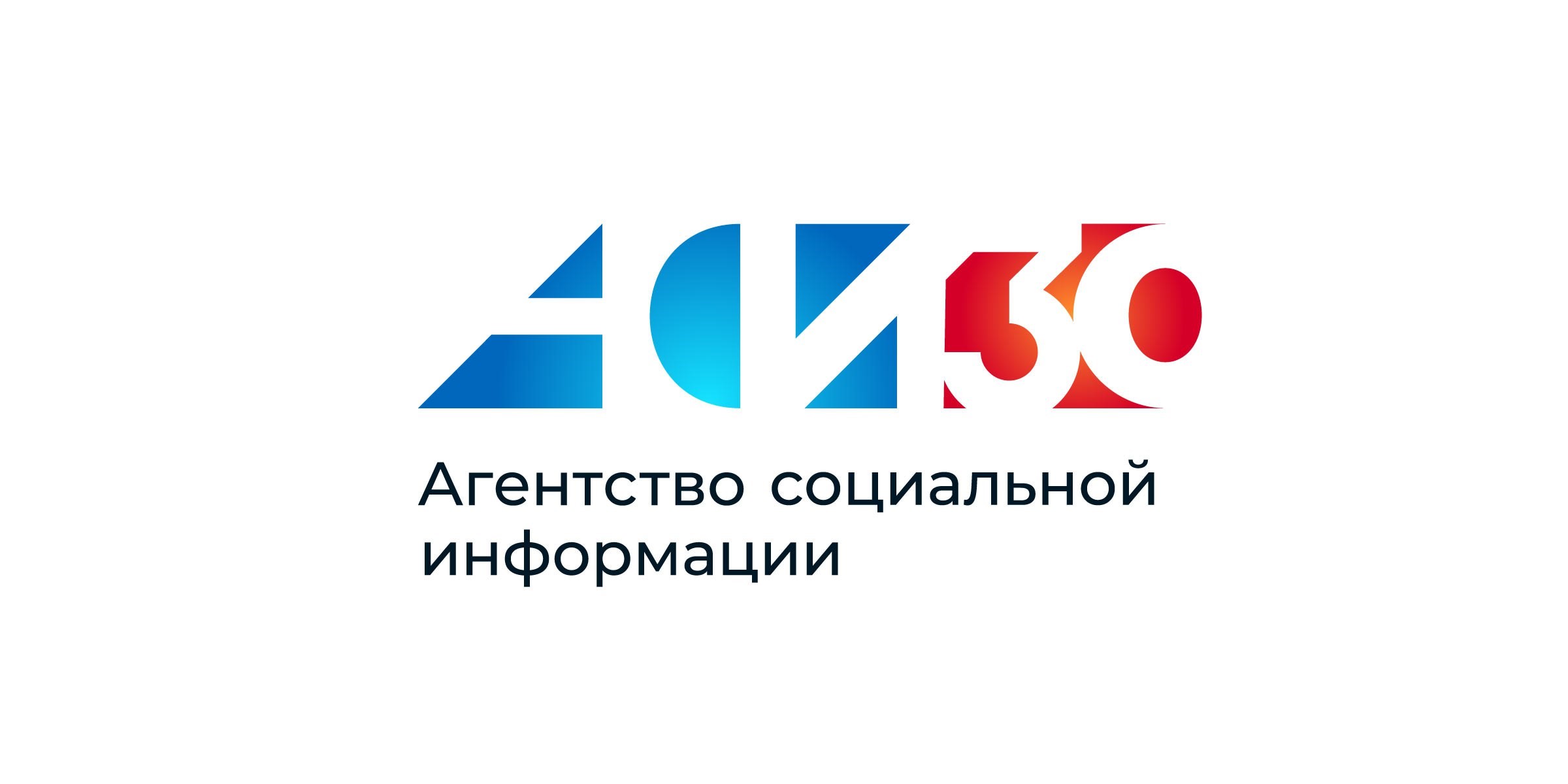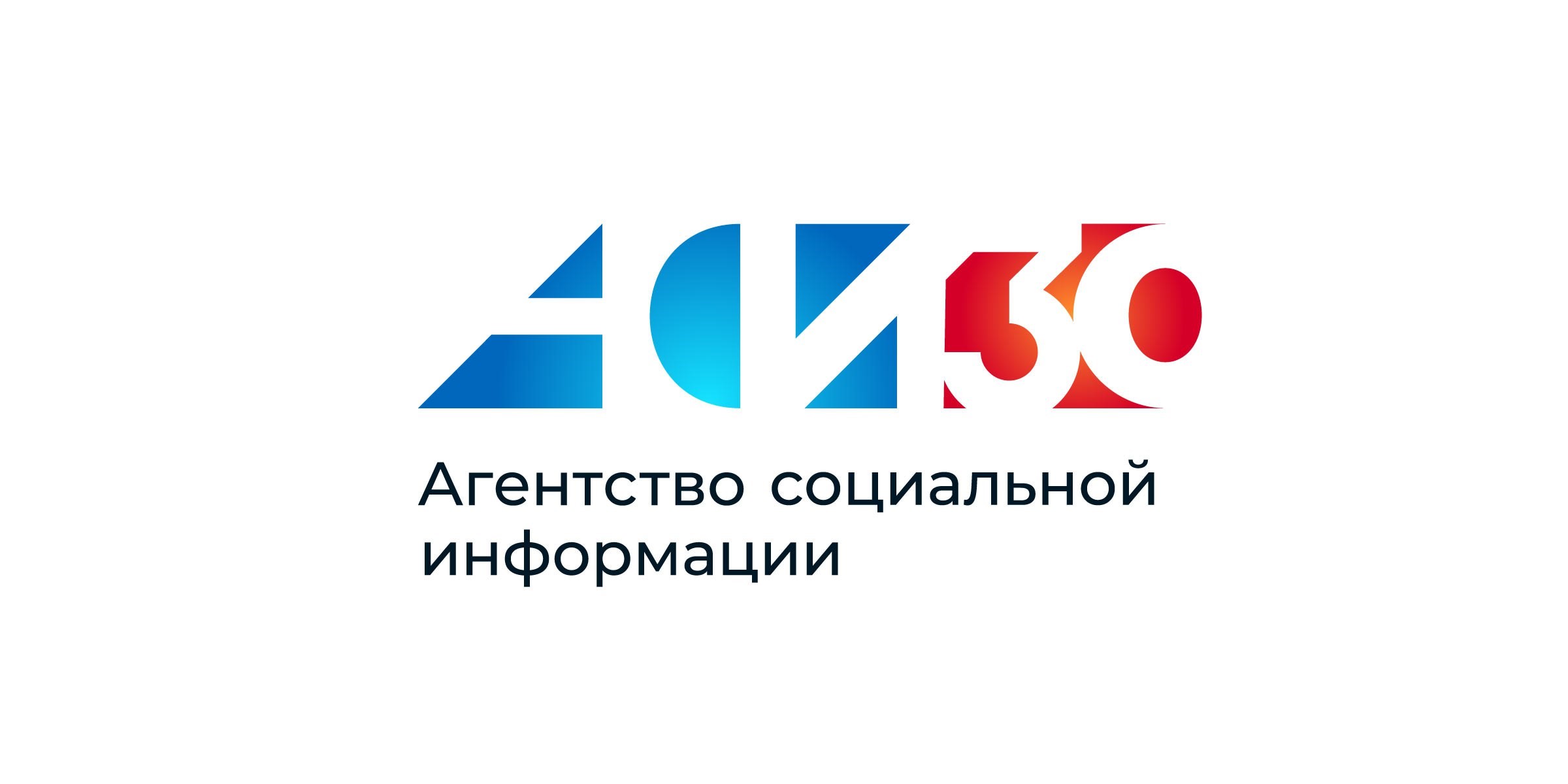Текст материала
31/03/2015, 13:55
ПЕРВЫЙ МУЗЕЙ РОССИИ
Знаменитая Кунсткамера, а ныне Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого Российской академии наук, запустила проект комплексной разработки новой коммуникационной стратегии «Кунсткамера Третьего тысячелетия». В рамках проекта будет пересмотрена политика работы музея с внешними аудиториями, будет проведен ребрендинг, стартуют новые образовательные проекты, коренным образом изменится присутствие музея в соцсетях. Первые изменения будут заметны уже осенью. Проект разработки новой стратегии профинансирован фондом В. Потанина. В самом начале проекта ART1 взял интервью у директора Кунсткамеры, известного антрополога, доктора исторических наук Юрия Кирилловича Чистова.

Юрий Чистов
Митя Харшак: Юрий Кириллович, для посетителей существует экспозиция как видимая часть музея, но у музея есть разные направления деятельности, которые связаны не только с хранением и демонстрацией экспонатов. Вы можете рассказать подробнее об основных векторах музейной деятельности? Насколько активны сейчас экспедиции? Если оглянуться в прошлое Кунсткамеры, станет ясно, что это было одно из основных направлений. Научная деятельность?
Юрий Чистов: Для начала уточню: то, что мы показываем на экспозиции, — меньше 0,5 процента нашей коллекции. У нас примерно 1,2 млн экспонатов, правда, значительная часть этой коллекции — антропология, археология и фотографии. Есть еще собрание музея Ломоносова, представляющее историю российской науки XVIII века. Количество экспонатов в больших европейских музеях, хранящих неевропейское наследие, колеблется от 100 до 300 тысяч. У нас — более 250 тысяч этнографических экспонатов. В наших залах мы не можем показать все и последнее время работаем над публикацией печатных и онлайн-каталогов самых знаковых коллекций. Но это не просто альбомы с красивыми картинками, а результат большой научной работы.
— При музее существует диссертационный совет?
— Да. Мы не только музей, но одновременно и научно-исследовательский институт Российской академии наук. Нашему бюджетодавателю, которым до осенней реформы 2013 года была РАН, наша музейная ипостась была безразлична. Мы называемся государственным бюджетным учреждением науки и финансируемся как научно-исследовательский институт. Конечно, у нас есть аспирантура, с которой сейчас большие сложности ввиду новых решений Минобразования, есть диссертационный совет, нагрузка на который в последние годы возросла, потому что раньше у нас было около 20 диссертационных советов по специальности «этнология, антропология», а сейчас осталось, если не ошибаюсь, пять. В нашем институте 15 научных отделов, большинство сотрудников которых занимается научными исследованиями, так или иначе связанными с музейными коллекциями, потому что это счастье, когда научное учреждение имеет архив или музейное собрание.
— Существует ли в запасниках массив информации, который до сих пор не был изучен?
— Конечно: не все экспонаты должным образом описаны. Наши фонды находятся в очень стесненных условиях: в этнографических фондах на один квадратный метр приходится примерно 300 экспонатов — за счет высоты потолков и многоэтажности стеллажей. Музейщикам это не понравится, но мы все еще плохо знаем свои фонды и постоянно делаем находки в своих коллекциях. Все есть в описях, но не до всего доходят руки. Сейчас оцифровали описи, и они в электронном виде доступны для каждого сотрудника. Было отсканировано порядка 200 тысяч страниц.
— А бывали такие курьезные ситуации, когда вы делали находку: «А что это?»
— Ну, вы не преувеличивайте. Под вашим ноутбуком лежит только что выпущенная книжка — эталонное и знаковое для нашего музея издание. Коллекция, о которой она рассказывает, много лет лежала в нашем музее. Она была конфискована на московской таможне в 1914 году, и ее пытались передать многим музеям. В результате больше 50 лет назад она попала к нам на полки, была передана из Государственного музея Востока: 640 буддийских статуэток. Было абсолютно непонятно, что с этой коллекцией делать. Полное отсутствие какой-либо информации. Типичная запись при регистрации коллекции «Фигура сидящего божества». Ни даты, ни страны происхождения, ни сведений о том, что это за персонаж буддийского пантеона. Эксперты из нашего музея, Института реставрации МК РФ, Эрмитажа смогли на основании семантики, оргаментики, поз, одежды, состава сплавов создать паспорт коллекции. С некой долей вероятности мы знаем, что среди этих фигурок есть буддистская статуэтка из Афганистана I века нашей эры. Есть уникальные вещи, попавшие в эту коллекцию при ограблении императорского дворца в Пекине во время Боксерского восстания, — то есть шедевры мирового класса.
— Они вошли в постоянную экспозицию?
— Нет, конечно, у нас нет такой возможности. Мы назвали этот каталог «108 образов Будды», потому что 108 — сакральное число, и именно такое количество статуэток мы рассматриваем подробно, а в конце каталога есть таблица, где даны они все.
— Есть возможность ротации постоянной экспозиции?
— На задней обложке этого альбома расположен QR-код, который вас отошлет в наш онлайн-каталог — таким образом, мы открываем наши фондохранилища всем людям, которые интересуются буддизмом. Я не вижу смысла отнимать у постоянной экспозиции целый зал для этих статуэток, но они могут быть темой временной выставки.
— Вы проводите временные выставки?
— Нет: нам не хватает выставочных площадей. Это единственная причина. Мы проводим большие выставки за рубежом, многие из них сформированы исключительно из наших коллекций. География такого обмена гигантская: в прошлом году в Канберре была выставка, посвященная священным богам Полинезии, где было восемь наших экспонатов из 200 с лишним, участвовало 69 музеев, в том числе Британский, Кембриджский, Берлинский музеи и наш.
— В начале разговора я спросил про поездки: участвуют ли сотрудники музея в этнографических экспедициях.
— Последние годы — очень активно. После абсолютного провала в 1990-е годы, когда это было финансово очень сложно, наступил абсолютнейший ренессанс, который длится уже лет десять, существенно более интенсивный, чем в советские времена. Я в музее работаю с 1976 года. В советские времена поехать в экспедицию не было проблемой, но, конечно, не за рубеж. Мы очень много ездили по СССР: до избрания директором в качестве физического антрополога вместе с коллегами я ездил на Курильские острова, в Среднюю Азию, Сибирь, Карелию, Коми.
К юбилею высадки Миклухо-Маклая на Новой Гвинее ЦК КПСС отправил группу специалистов на корабле, чтобы они провели в Новой Гвинее современные исследования. Группу сформировали из хороших, но строго партийных ученых из Москвы и Ленинграда.
По специальному разрешению были этнографо-антропологические экспедиции во Вьетнаме и Индии.
В течение нескольких лет с 1976 года я ежегодно ездил в экспедицию в Южный Йемен. Это была потрясающая история, которая сыграла в моей жизни очень большую роль: она сформировала меня как ученого и директора: из этой экспедиции вышли Михаил Борисович Пиотровский, директор московского Института востоковедения Виталий Вячеславович Наумкин, директор Института истории, археологии и этнографии Дагестанского НЦ РАН Хизри Амирханов, директор Государственного музея Востока Александр Всеволодович Седов. Мы получили международно значимый материал, который начали тут же публиковать на английском, арабском и других языках. Благодаря этому я поехал на годичную стажировку в английский университет, участвовал в международных конференциях.

Ю.К. Чистов. Эфиопия. 2008
— Экспедиции — это основной источник пополнения коллекции?
— Нет, но существенный. Сейчас все сотрудники, особенно молодые, осознали, что можно заниматься полевыми исследованиями практически во всех странах. Если раньше в Африку из сотрудников музея мог попасть только мужчина, подрядившийся переводчиком в армию в Мали, Анголу или в арабские страны на севере континента, то теперь экспедиция ездит в Африку каждый год. Наши специалисты почти каждый год работают на Филиппинах, и сейчас заведующая отделом Австралии, Океании и Индонезии решила немного изменить маршрут и отправилась в Камбоджу. У нас есть молодая сотрудница, которая недавно издала книгу о традиционных способах навигации в Микронезии и в третий раз собирается туда в экспедицию. Есть другая молодая специалистка по Малайзии, которая уже несколько раз там занималась исследованиями, не говоря уже об экспедициях в Грузии, Казахстане, Сибири. В год мы организуем порядка 30 экспедиционных выездов. У нас очень сильный отдел европеистики, и специалисты по Албании ежегодно ездят в Косово, Македонию, Болгарию.
— Ваши отделы разделены по географическим регионам?
— Большая часть — да. Еще есть отделы антропологии, археологии, редакция научного журнала «Антропологический форум» и Центр политической антропологии, а все остальные — региональные отделы, у нас есть специалисты по традиционной культуре всех регионов мира.
— Вы сказали, что экспедиция — это значительный источник формирования коллекции. Предположим, в XVIII веке ехали из Петербурга «цивилизованные европейцы» к «дикарям» и меняли инструменты на предметы быта и оружия — я упрощаю все, конечно. Сегодня выделяются специальные средства на покупку экспонатов? Как это происходит?
— Всеми возможными хитрыми путями, кто во что горазд. Что-то может выделить музей по просьбе руководителя экспедиции из наших музейных, внебюджетных денег, а иногда что-то покупают ученые на свои деньги и дарят музею (порой суточные оказываются больше, чем нужно для проживания в тех же Филиппинах или в Казахстане). У нас есть такой негласный принцип, который мне очень нравится: куда бы ни ехала экспедиция и чем бы ни занималась, участники каждой считают своим долгом привезти что-то в музей. Вот у нас специалисты по этнолингвистике народов Западной Африки вроде не имеют никакого отношения к музейным коллекциям, но они каждый раз привозят что-то в музей, иногда фантастические вещи. Валентин Выдрин, который у нас заведовал отделом Африки, а сейчас является профессором Института восточных языков и цивилизаций в Париже, был в экспедиции и обнаружил, что в каком-то хиреющем маленьком городке музей, организованный французами в конце XIX века, распродает свои экспонаты, и купил 30—40 уникальных масок за свои деньги и привез нам. Бывают специализированные поездки. Одну из них организовывал я по следам экспедиции Николая Гумилева в Эфиопии. Задач у этого проекта было несколько: понять дневниковые записи поэта и ученого, как и где он работал, разглядеть его черно-белые фотографии не очень хорошего качества и дополнить их современными цветными, сделать фильм — но не только. Мы хотели купить несколько вещей в гумилевских местах для коллекции и выставочного проекта, который мы пока не закончили. И мы, действительно, купили потрясающую коллекцию, причем тем же самым способом, которым это сделал Гумилев, состоящую из похожих по качеству вещей, то есть гораздо более старых, чем мы предполагали. Мы привезли 108 вещей из этой экспедиции.
— Вы говорите про старые вещи. А предметы обихода сегодняшнего дня вам интересно иметь в экспозиции?
— Обязательно. Но они должны быть предметами традиционного быта и культуры. Они могут быть модифицированными, представлять традицию в развитии или даже изменении, к примеру, могут быть сделаны под влиянием европейцев, «на потребу» им. Сувениров мы как раз стараемся избегать, но иногда это тоже интересно. Например, игрушки, которые в африканских деревнях делают из банок «Кока-колы», тоже имеют право быть в этнографическом музее. Я много спорил на эту тему с коллегами из европейских музеев, где практически перестали собрать коллекции и считают, что это невозможно. Мы полагаем абсолютным шедевром коллекцию, собранную сто лет назад, не говоря уже о более старых собраниях. А какими глазами люди через 100 или 300 лет будут смотреть на то, что мы купили сейчас в Эфиопии? Надеюсь, это сохранится. Я считаю, что процесс пополнения коллекций музея должен быть непрерывным.

Ю.К. Чистов. Эфиопия. 2008
— Существует Российский этнографический музей на площади Искусств. Какие у вас с ним отношения? Вы соперничаете? У вас ведь в каких-то регионах пересекаются интересы.
— Мы абсолютно ровно друг к другу относимся, у нас партнерские отношения. Наш музей, как вы знаете, возник 300 лет назад. Тогда основная задача первых академических экспедиций XVIII века заключалась в познании необъятной страны: Сибири, Поволжья, Южной России, и коллекции, кроме купленных Петром I в Европе, были оттуда по большей части. Когда наступила эпоха Русской Америки и кругосветных мореплаваний, то, благодаря заложенным во времена Петра I традициям, Сенат давал задания мореплавателям и посылал в экспедиции студентов Академического университета, адъюнктов и обязательно одного художника. И тогда стали появляться коллекции со всей ойкумены. Был период, когда наш музей назывался Музеем этнографии и антропологии преимущественно народов России. А потом оказалось, что вещей из Китая или Северной Америки существенно много, и мы стали испытывать дефицит в собрании по отечественной истории народов. И когда образовывался Российский этнографический музей в 1902 году как отдел Русского музея, отсюда люди ушли создавать тот музей. Естественно, это была общая история, и вопрос обсуждался очень широко во всем профессиональном сообществе. И было решено, что там будет музей этнографии народов Российской империи, а здесь — этнографии народов мира. По сути это была немецкая схема – Volksrkunde Museum (музей этнографии своей страны) и Volkerkunde Museum (музей этнографии народов неевропейских стран). При этом, по счастью, было решено не отдавать им все коллекции по России, которые хранились у нас, потому что это был золотой фонд нашего музея. Да и наш музей в то время испытывал необычайный подъем, с очень сильным директором академиком В.В. Радловым. Он многократно увеличил коллекции нашего музея, число выставочных залов, кураторов и пр. Синкретизм публичного музея и большого исследовательского академического центра, существующий и сегодня, имеет истоки в начале XX в. По многим регионам — Сибирь, Поволжье — коллекции наших музеев значительно друг друга дополняют, и мы часто участвуем в совместных выставочных проектах в России и за рубежом.
— Как ученый и исследователь вы не видите беды, что коллекции разнесены на два учреждения?
— Я не вижу особой проблемы. Мы тесно сотрудничаем, у нас есть отдел, который занимается сибирскими коллекциями, отдел Кавказа, восточных славян и неевропейских народов России. Например, в ежегодные экспедиции в Казахстан наши сотрудники ездят очень часто вместе и параллельно покупают экспонаты для обоих музеев. Такие хорошие человеческие отношения. Нам нечего делить. Иногда возникает легкое чувство ревности, но оно сиюминутно, поверьте.
— В Москве есть еще Государственный Музей Востока.
— Это все-таки музей не этнографический, а декоративно-прикладного искусства. Конечно, целый ряд его экспонатов мог бы быть и в этнографическом музее. И какая-то часть наших коллекций могла бы быть там. Диффузия достаточно большая, но вопрос не в экспонатах, а в том, как их выставлять и о чем рассказывать посетителям. Этот вопрос сейчас необычайно актуален в Европе, потому что из-за политкорректности и многих современных процессов достаточно много этнографических музеев превращается в выставки декоративно-прикладного искусства. Так, новый Музей на набережной Бранли в Париже открылся в 2006 году недалеко от Эйфелевой башни, ликвидировав, «слив» в один четыре или пять французских этнографических музеев, в том числе Музей человека. Это был проект Ширака, которым он был очень увлечен, как Помпиду — своим Центром, а Митерран — библиотекой. У него были советники, большей частью очень радикальные в смысле подхода к традиционной культуре, которые считали, что Франция стала многонациональной страной, где живет очень много африканцев, полинезийцев и арабов из бывших колоний. И когда они приходят в парижский музей, где показано, что они из народа, где носят набедренную повязку и добывают огонь, ударяя камнем о камень, то это ставит их в неравное положение как граждан Франции, что они чувствуют себя более примитивными. Словом, что это не хорошо. При этом народы эти создали фантастической красоты маски, литую бронзу, и мы должны представить их цивилизации как шедевр произведения искусства. Тогда они будут горды и будут чувствовать, что страна, гражданами которой они являются, уважает их. Дошло до того, что фантастически красивый музей, основанный на самых современных технологиях, в который вложено невероятное количество денег, с шикарной этнографической коллекцией превратился в музей декоративно-прикладного искусства.
— А всю этнографию убрали в запасники?
— Нет, выставлены «этнографические» экспонаты, но вне контекста, вне этнографической концепции, как шедевры традиционного искусства безымянных мастеров. А учреждение получило название Музея на набережной Бранли со стыдливой припиской: «Традиционное искусство народов Африки, Австралии и Океании». Даже в названии абсолютная политкорректность. Чем это отличается от музея восточных искусств Гиме, который наискосок через Сену находится? Ну, там немножко больше археологии.
— В музейной практике вам не приходилось сталкиваться с чрезмерными проявлениями политкорректности?
— Пока у нас такого не происходит — не знаю, хорошо это или плохо. Я убежден, что в современной Европе могут существовать этнографические музеи — для этого есть все возможности и подходы. Я много этим занимался и писал в международных журналах, выступал на международных симпозиумах. Мне кажется, что уважительный тон по отношению к народам другой культуры и других территорий возможен всегда. Я пытался сказать о том, что поворотный гарпун, придуманный эскимосами, — не меньшее завоевание человеческой цивилизации, чем колесо. Эти гарпуны обеспечили успешность охоты на крупных морских зверей и выживание огромного количества людей. Но их можно выставлять и как шедевры декоративно-прикладного искусства: гарпуны покрыты сакральной резьбой фантастической красоты. В культуре каждого народа есть что-то, что влилось в общую культуру народов мира, может быть, не в виде того, что сейчас используется, но как огромный опыт всего человечества. В амстердамском Музее тропической этнографии Лео Шенк (сейчас он в отставке, но за годы его директорства мы стали хорошими друзьями) сделал новую этнографическую экспозицию, очень интересную посетителям. Так что и в Европейских странах этнографический музей может существовать и успешно развиваться.

Ю.К. Чистов. Китай. 2008
— Вы говорили о проблемах с помещением. В случае, если бы у музея появились какие-то дополнительные площади, каковы были бы ваши действия? Делали бы временные выставки? Расширили бы постоянную экспозицию?
— Безусловно, и то, и другое.
— А первым делом что бы выставили?
— Из-за застопорившегося ремонта (в московском Музее антропологии при университете ведь та же проблема) уже много лет в музее отсутствует необходимая и городу, и стране тема — антропология. Экспозиция, которая бы показывала разнообразие и происхождение человека, древнейшее прошлое человечества. У нас есть коллекция, представляющая человека эпохи палеолита, неолита и мезолита, происхождение и разнообразие человеческих рас. Из-за пресловутого ремонта у нас не выставлена история Кунсткамеры — пока мы копим деньги и работаем над принципиально новой концепцией, которую хотим представить в круглом зале первого этажа башни. Отсутствует роскошная экспозиция Австралии и Океании, бывшая во времена моей молодости, зал Индонезии. В одном зале теснятся отделы Китая, Монголии и Кореи. Причем последняя готова дать нам много миллионов долларов на финансирование своей экспозиции, но нам негде сделать этот проект. Весь Индокитай загнан в маленький зальчик чуть больше этого кабинета. Сейчас мы делаем экспозицию Латинской Америки, которая тоже много лет отсутствовала.
— Некоторое время назад в городе обсуждалось, кому будет принадлежать бывшее здание Биржи на стрелке Васильевского острова. Вы заявляли о своем желании получить дополнительные площади? Безрезультатно?
— Да, конечно. Городские власти сказали тогда, что понимают наши проблемы, но, простите, принято политическое решение организовать там Музей геральдики и наград как один из филиалов Эрмитажа.
— Во многих музеях есть некий объект-бренд, к которому идут проторенными тропами, не глядя на другие экспонаты, толпы туристов, — в Лувре это «Джоконда», например.
— Меня это дико бесит. По-моему, это большая ошибка.
— А у вас есть такие объекты?
— Большая часть наших посетителей хочет видеть, как они говорят, уродов. Эти анатомические коллекции, которые имеют огромное научное значение в России, зрителями воспринимаются в нашей стране вот так.
— Мне кажется, что и в любой другой стране они бы так воспринимались.
— А я думаю, нет. Более того, я спрашивал директора музея Естественной истории в Лондоне, почему у них не выставлена одна из самых лучших коллекций неандертальцев и австралопитеков — происхождение человека. Директор ответил, что народ не хочет смотреть кости. Думаю, это преломление той же политкорректности. Я очень часто слышу реакцию иностранных специалистов, которые приходят в наш музей и говорят: «Мы этот зал смотреть не хотим».
— Почему?
— Неприятно. Мы пытаемся показывать этот зал как начальную и очень важную часть истории российской науки. Мы сделали абсолютно все, чтобы посетители воспринимали этот зал именно в таком контексте, но очень мало кто это делает, несмотря на рассказы наших профессиональных экскурсоводов об истории создания Кунсткамеры и Академии наук, первых шагах российской науки, поясняющих, почему Петру это было интересно, какой был этап в истории медицины. Тексты к выставке оформлены хорошим графическим дизайнером и вполне читабельны. Люди приходят и говорят: «Уроды, я так и думал».
— Может быть, это связано с тем, что у массового зрителя есть тяга к эстетике безобразного, и «уроды» привлекают и шокируют и�, как любые фильмы ужасов или криминальная хроника.
— У меня всю жизнь от этого неприятный осадок: что в глазах многих людей у нашего музея неправильный имидж. С другой стороны, когда мы делали эту экспозицию в 2003 году, то решили поместить ее в большой барочный зал, где сохранились оригинальные интерьеры — именно потому, что экспозиция рассказывает о науке времени барокко. Нам казалось, что в старых шкафах, сохранившихся с петровских времен, мы попробуем воссоздать кунсткамеровский стиль экспонирования естественнонаучных коллекций, и на фоне барочного интерьера они будут восприниматься по-другому. Я не могу сказать, что это не сработало: знающие люди говорят, что потрясающе.
— Да, атмосфера XVIII века очень здорово сохранилась.
— Но с другой стороны, родилась шутка, что этот зал, будучи самым далеким от входа в музей, вынуждает посетителя пройти через всю экспозицию, чтобы тот невольно обратил свое внимание внимание на другие экспонаты.
— То есть вам скорее не нравится, что люди целенаправленно идут смотреть на анатомическую коллекцию?
— Мне бы хотелось, чтобы они смотрели самый старый музей в России и гордились историей науки в России, которая получила мощный импульс в эпоху Петра I и где стремились работать многие великие европейские ученые XVIII века, например, Эйлер, братья Бернулли, Делиль. В этом зале две части: левая — это коллекции Фредерика Рюйша, выдающегося голландского анатома, и Альберта Себа, амстердамского аптекаря и одного из первых в мире арт-дилеров. Эти коллекции Петр I купил в Амстердаме за колоссальные деньги, чтобы музей в Петербурге стал самым большим и знаменитым в Европе того времени. В правой части зала выставлена коллекция, собранная в России по специальным указам императора: это препараты с аномалиями анатомического развития, если хотите, называйте их «уродами». И эта коллекция собиралась не потому, что Петра и его советника лейб-медика Роберта Арескина интересовали уродства, а потому что одним из важнейших вопросов медицины того времени был вопрос о том, что такое норма и что такое патология, где лежит граница между ними. Второй вопрос — в чем причина аномалии развития. Петр даже специально обязал священников собирать эту коллекцию и велел им объяснять прихожанам, что «уродства» — это не порождение дьявола и не наказание за грехи, а возникающие в природе аномалии, которые никак не связаны с мистикой.
Многие посетители музея часто практически не видят коллекцию Рюйша — действительно фантастическое в истории науки явление. Эти препараты создавались, чтобы учить медицине врачей и медсестер. Рюйш, в том числе, преподавал на курсах акушерок в Амстердаме, поэтому в его коллекции так много младенцев. Благодаря своему искусству бальзамирования и приготовления медицинских препаратов Рюйш получил возможность учить их ежедневно. Представьте себе медика в конце XVII века: как он должен был учить врачей и акушеров? Картинки показывать? Таких книг тогда было раз два и обчелся и в них были малочисленные иллюстрации. Препарируя трупики младенцев? Это было возможно несколько раз в году, когда умирал у бездомной мамаши не родившийся или только что родившийся младенец. В Голландии, хотя и стране антиклерикального общества, была очень строгая мораль, даже квакерство, скорее. Рюйшу нужно было научиться сохранять части тел младенцев, чтобы учить и показывать, как устроены сосуды, что такое плацента, что такое матка. Это был фантастический прорыв в истории медицины. Эта коллекция известна во всем мире и во все времена вызывала восхищение просвещенных людей и специалистов.
— Коллекции Рюйша в другие музеи попадали — в то же время, когда они попали в Кунсткамеру?
— Он продал Петру I две тысячи экспонатов. После этого он создал еще одну серию экспонатов, где-то около тысячи, которую он продал польскому королю Сигизмунду. Куда она делась, непонятно. Скорее всего, была утрачена. Со своими коллегами я объездил все медицинские и естественнонаучные музеи Голландии, когда мы делали эту выставку. У них в стране осталось всего 9—12 экспонатов, изготовленных Рюйшем, у нас сохранилось около тысячи препаратов.

Ю.К. Чистов. Австралия. 2014
— Вы в музее с 1976 года работаете. Можете как-то охарактеризовать десятилетия — 90-е, 2000-е, начало 2010-х: как менялось самоосознание музея, его позиции в общественном сознании, отметить краеугольные события в его истории?
— Непростой вопрос. Я уже почти 15 лет директор этого музея. Могу вам сказать о том, что было в советское время, во времена моей молодости и отчасти зрелости. Тяжелый период начался с конца 80-х. Тогда было сделано очень много ошибок, на мой взгляд, которые и привели меня в кабинет директора, ведь становиться им я не собирался.
— Что это за ошибки были?
— Рудольф Фердинандович Итс, который руководил музеем до середины 80-х, воссоздал кафедру этнографии и антропологии в университете после долгого отсутствия, и я учился на этой кафедре. Это был очень яркий человек, его до сих пор в городе помнят, очень харизматичный и непростой. Сын расстрелянного крупного партийного чиновника, он вырос в детском доме для детей врагов народа и был по своей натуре комсомольским и партийным лидером, которому, помимо руководства музеем и кафедрой, надо было оставаться на общественных началах секретарем по культуре Василеостровского райкома партии. Но при этом он был удивительно преданный науке человек, и все, кто кончал его кафедру, в том числе и я, вспоминают его с большой благодарностью. Он заботился о выпускниках, был открыт новым идеям, пытался для музея сделать все, что возможно. Дверь его кабинета всегда была открыта, что в последующие годы стало невозможным. Став директором, я решил продолжить традицию открытости Рудольфа Фердинандовича. Нельзя быть где-то там высоко директором, доступ к которому ограничен — дурацкая табличка с «приемными часами» висит, но она не имеет никакого значения. Хороший директор, с моей точки зрения, не только не мешает сотрудникам работать, но и активно помогает им.
После безвременной смерти Рудольфа Итса в музее наступили очень неприятные времена, когда к директору приходили с предложениями и планами, а он отвечал: «Надо подумать», что означало «Больше не приходи по этому вопросу». А это было время, когда от инициативы директора зависело очень много: штат музея, участие в зарубежных выставках, издание книг, зарплата сотрудников. «Директором» нашего музея в советское время была партийная дама, бывшая секретарем райкома партии. У меня от нее остались вполне позитивные воспоминания, она не мешала никому работать. Но главным для нее было не отклоняться от линии партии. Официально она была заместителем директора (директором центральной части Института этнографии в Москве был академик Ю.В. Бромлей), причем, казалось бы, достаточно самостоятельным в принятии решений, но… Бюджетные деньги приходили и тратились по привычке. Никакой инициативы, желания что-то затевать, изменять, издавать коллекции, устраивать выставки. Это было такое место дохлое, где от директора ничего не зависело: главное, чтобы кто-нибудь из сотрудников никуда не вляпался, не опубликовал что-нибудь, что легло бы пятном на репутацию учреждения и его директора.
Потом прошло время, когда музей перестал быть бесплатным, надо было крутиться и придумывать способы, как зарабатывать деньги, осваивать бюджет, создавать музейный магазин, получать зарубежные гранты, вступать в международные контакты.
— За 15 лет вашего директорства вы можете назвать три своих достижения и три провала, если таковые есть.
— Провал мой в том, что я очень много беру на себя и мало что успеваю. У меня замечательная команда, но есть вещи, которые я задумал определенным образом и хочу их воплотить именно так. Вот та же «гумилевская» выставка: руки не доходят. О достижениях мне говорить трудно.
— Есть ли в зарубежных музеях такие вещи, которые бы вам хотелось иметь в своем?
— Мало музеев у меня вызывают острую зависть. Я считаю, что наш музей — один из самых великих среди этнографических музеев мира и вижу, как воспринимают Кунсткамеру мои европейские коллеги. Почти с самого начала своего директорства я получил предложение, которое неоднократно посылалось предыдущим директорам, а они на него не реагировали. Оказалось, что директора крупных этнографических музеев Европы создали некое сообщество, и каждый год собираются в одном из музеев на рабочее совещание, чтобы обсудить животрепещущие вопросы и новые проекты. И с 2005 года я стал ежегодно ездить на такие совещания, а в 2008 году провел здесь одно из самых удачных совещаний, по отзывам коллег. Все были потрясены коллекциями нашего музея, его историей. Когда в прошлом году Кунсткамера праздновала свое 300-летие, мы не получили от правительства и города ни копейки. Мне пришлось задержаться с организацией конференции, но когда я стал рассылать приглашения, и прежде всего этому сообществу, то приехали директора крупнейших европейских музеев за свои деньги и в их числе — тогдашний исполнительный директор ЮНЕСКО и экс-президент Международного союза музеев Алиссандра Камминс. Она специально прилетела на наш юбилей с острова Барбадос, где возглавляет Национальный музей.
Ежегодно мы выделяем из наших музейных денег средства на 15 поездок на международные конференции в других странах для сотрудников — такого нет ни в одном гуманитарном институте. Я участвую во множестве международных проектов, к примеру, я один из троих европейских директоров, приглашенных консультировать создание Большого этнографического музея в Корее. Там же я член редколлегии журнала, который издает Национальный музей этнографии Кореи совместно с ЮНЕСКО и ИКОМ, и каждый год летаю туда. Мне кажется, это большое достижение для нашего музея. Очень многие коллекции поделены между европейскими музеями: их собирали одни и те же люди и частично продавали, это была частая история в конце XIX — начале XX века. И когда я звоню своему коллеге и говорю: можно я к тебе пришлю сотрудницу, ей надо поработать с вашими коллекциями и архивом, мне отвечают: да, конечно, не проблема. Нас приглашают в очень крупные международные исследовательские и выставочные проекты музеи Европы, Америки, Австралии Восточной Азии. Моя заместительница по музею Юлия Купина — блестящий специалист, единственный человек в России, который кончил топ-менеджерские курсы для музейных директоров в Гетти-институте в Лос-Анджелесе. Ее однокашники по Гетти-институту сейчас директора и замдиректора многих крупных музеев, что также облегчает нам жизнь и профессиональное общение. Словом, мы в равноправные члены этого сообщества, если не сказать, одни из лидеров. Рудольфу Итсу удалось выпустить в издательстве «Аврора» одну красочную книжку о нашем музее. Когда я пришел, в институте издавалось в год пять-шесть книг, а сейчас — от 30 до 40. По последнему нашему изданию, научному каталогу буддийской коллекции мы, в том числе, консультировались с лучшими специалистами в Корее. Там сейчас издаются такие книги, какие вам и не снились. Полиграфия и культура дизайна на высшем уровне. Изданный нами каталог, который я отвез им в подарок в феврале, произвел на корейских коллег неизгладимое впечатление.
— Существуют ли у вас взаимоотношения между музеем и властью? Принимали ли вы гостей уровня глав государств и правительств?
— Да. Может, не такого уровня, как в Эрмитаже и Петергофе. В 2003 году к нам должны были прийти Джордж и Лора Буш, он не смог, была только супруга. Был президент Швейцарии, несколько немецких министров — все в рамках 300-летия Петербурга. Самым крутым был приезд королевы Таиланда, а потом ее дочки. У нас хранятся роскошные коллекции, которые король Сиама Рама V подарил цесаревичу Николаю во время его путешествия на Восток — для таиландцев эта наша коллекция является национальной реликвией.
— Таких гостей вы водите в фонды, чтобы показать что-то особенное?
— В фонды водить кого-либо нам вообще стыдно. Для той же королевы Таиланда специально принесли из фондов все роскошные коллекции из Сиама, музей закрыли, поставили красивое старое кресло и все это показывали. На коленях ползала по ковру фрейлина, обмахивая ее веером, стояли в белоснежных мундирах адмиралы.
— А российская власть?
— Нет. Мне не удалось ни разу даже губернатора сюда завлечь.
— Вы всю жизнь занимаетесь наукой — и вдруг стали администратором. Как удается разводить эти два направления?
— Ужасно сложно. Антропологией я перестал заниматься в последние годы и нашел себе нишу в изучении истории музея и коллекции. Представьте себе, что такое антропология: большие экспедиции, реставрация костей и черепов скелетов древнего человека, измерения, статистика — трудоемкий цикл. Но я решил, что временно я займусь музеем, его историей. Надеюсь вернуться к антропологии, но проблема для меня в том, что я не только директор музея, а еще и директор научного института Академии наук, который должен отчитываться о своей научной работе книгами и статьями.
— Что отравляет радость директорства?
— Очень трудно общаться с чиновниками.
— Они совсем инопланетяне?
— Если честно, чиновники Академии наук не были такими, а в новых условиях чиновники — точно инопланетяне. Самое плохое в том, что я не живу своей научной жизнью. У меня каждый божий день списки долгов не растут, но и не сокращаются. Я живу все время в состоянии цейтнота. Это, поверьте, не просто. Но, с другой стороны, мне все очень интересно, я не очень жалею о том, что сделал этот выбор.
— Вы отмерили себе срок директорства?
— За меня это государство отмерило. Приняли новый закон, согласно которому после 65 лет нельзя быть директором научно-исследовательского института. У меня контракт до 2017 года, когда мне исполнится 63 года.