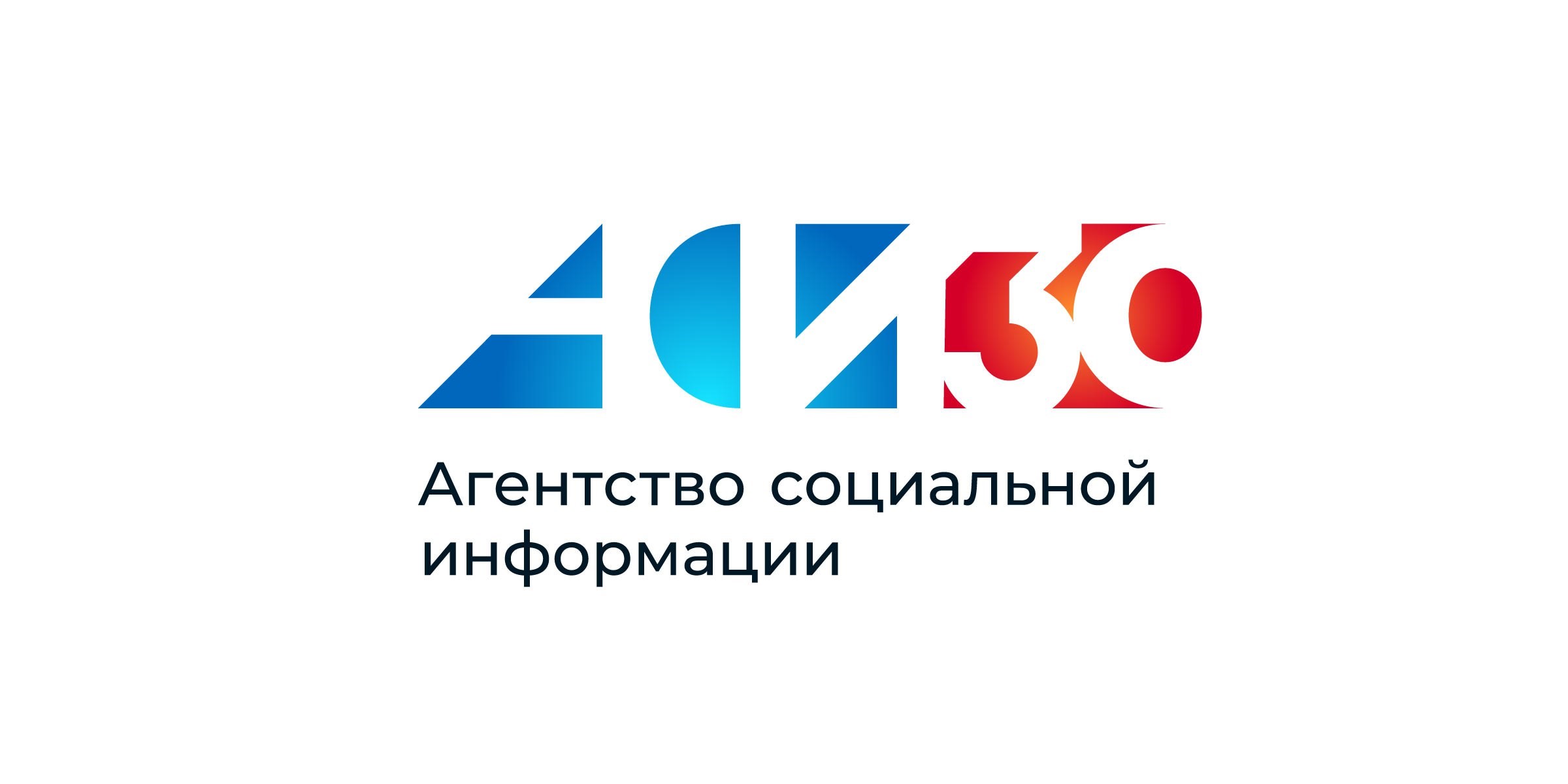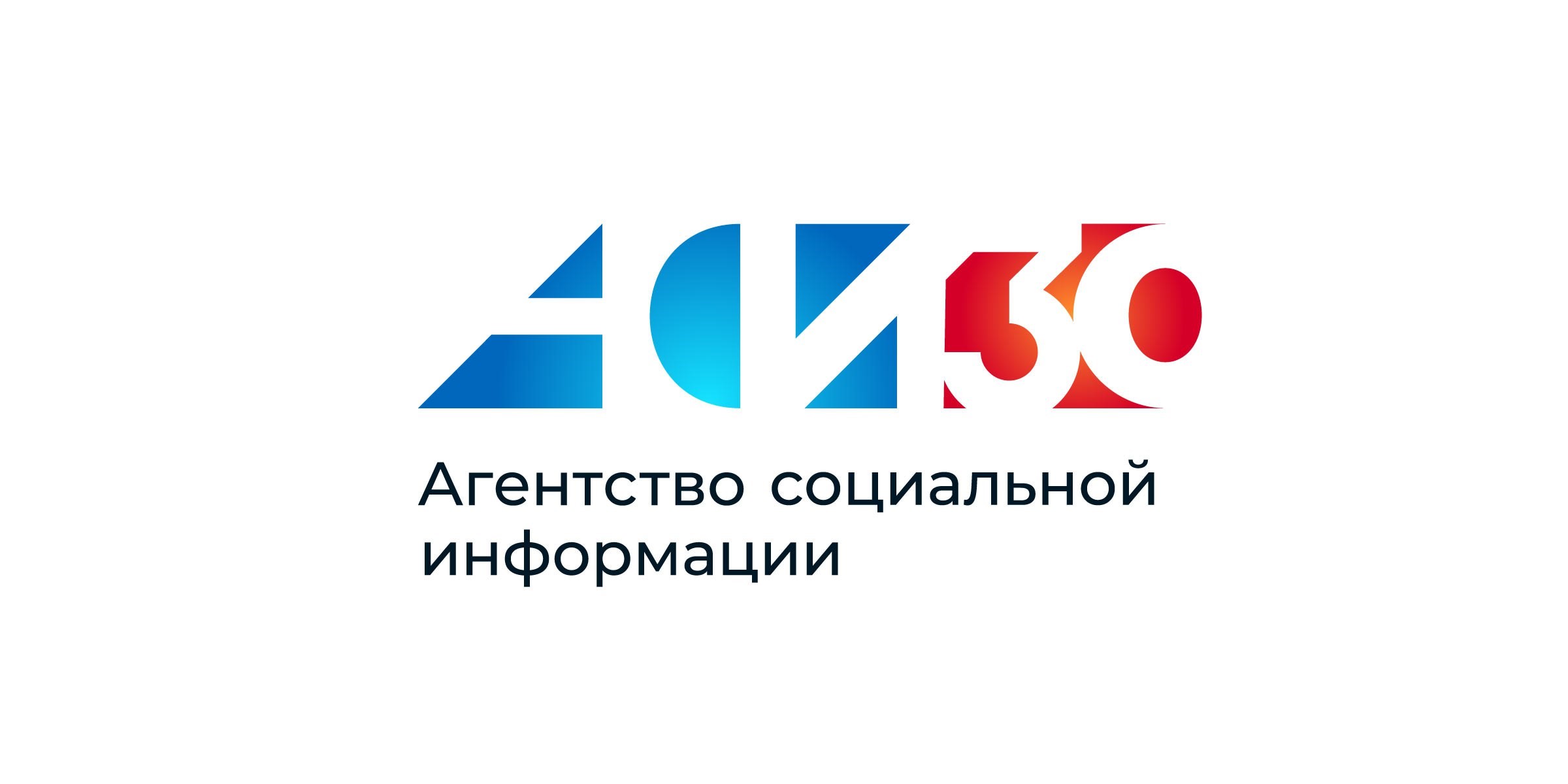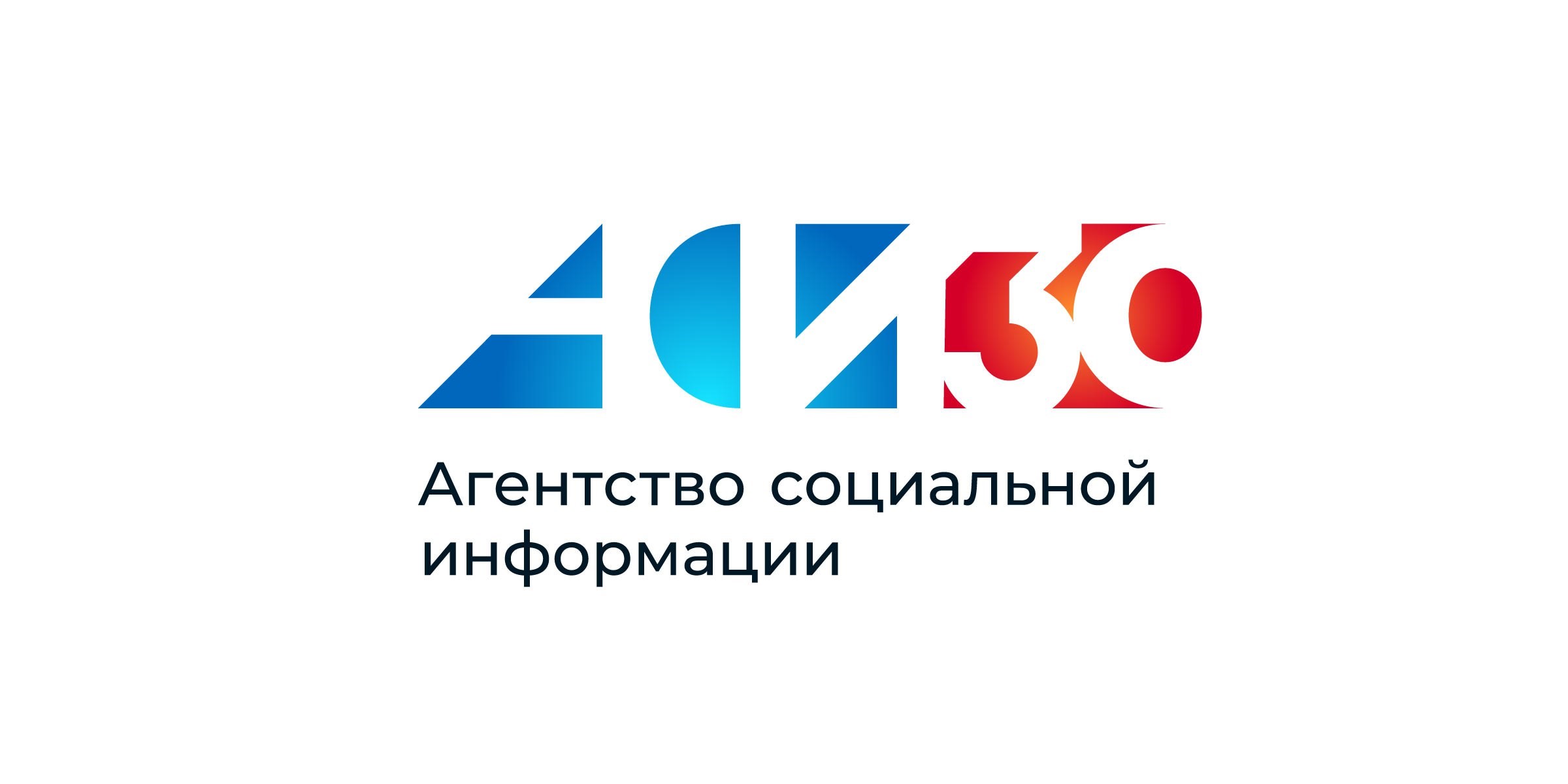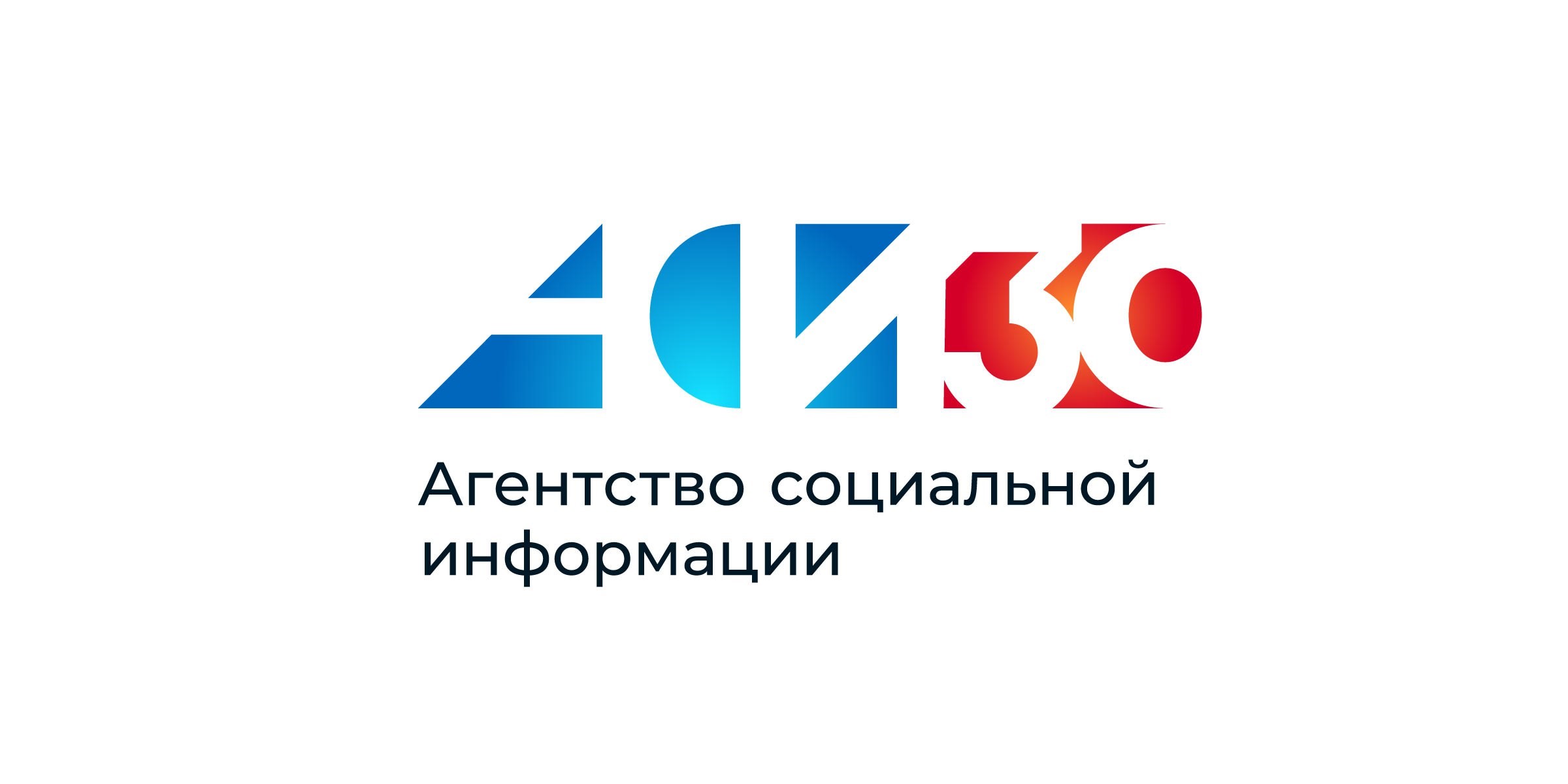Текст материала
— Как вообще родилась идея музейно-театрального проекта? Я попыталась вспомнить какой‑нибудь подобный по масштабу российский проект, объединяющий театр и музей, — ничего такого мне в голову не пришло.
— Действительно, я тоже не знаю ничего альтернативного. Понятно, что с театральными практиками, которые существуют в музейных и галерейных пространствах, все сталкиваются часто. Музейное пространство для театра выглядят довольно заманчивым, привлекательным местом — особенно для театра, который пытается переопределять себя, искать новые формы взаимодействия между участниками команды и взаимодействия со зрителями. Но поговорить об этом, тематизировать и каким‑то образом представить с разных точек зрения, не пытался никто.
Инициатива пришла со стороны фонда Потанина, который прицельно занимается музейными практиками и переопределением места, роли, форм музеев в современном обществе в России, и они уже на протяжении какого‑то времени поддерживали проекты, которые приводили театры в музеи. Дальше мы включили всю экспертизу, которую мы наработали в Институте театра (образовательный проект фестиваля «Золотая маска». — Прим. ред.) по исследованию новых театральных форм, чтобы придумать, какой же это должен быть проект. Понятно, что у нас была идея сделать мини-фестиваль, — но нам показалось, что этого недостаточно. И мы решили сделать трехступенчатую историю. Во-первых, исследовательскую обучающую лабораторию для практиков музея и театра, которые уже занимаются подобного рода сотрудничеством. Потом — пилотный мини-фестиваль. И наконец, нам было важно организовать разговор в рамках круглого стола для того, чтобы понять концептуальную основу этого явления его перспективы и тенденции.
— Как ты думаешь, откуда берется это стремление к синтезу музея и театра? Понятно, что все виды искусства сейчас так или иначе стремятся к мультижанровости. Но где‑то в своей основе музей предрасположен консервировать информацию и таким образом достигать вечности, несмотря на все его попытки отказаться от этого принципа. А театр, наоборот, явление сиюминутное и от вечности далекое. Как происходит сейчас это сближение? Чем оно обусловлено?
— Наверное, первоначальный импульс можно сформулировать как взаимный соблазн. Это импульс — и одновременно это ограничение для подобного рода сотрудничества. Театры соблазняют музеи своей способностью вживить, представить, продемонстрировать, завлечь, привлечь, развлечь. И нужно сказать, что опыт этого проекта нам показывает, что по-прежнему среди музейщиков театр воспринимается как поставщик интертеймента. Анимация, если говорить терминами турецких курортов.
Но это, на самом деле, не только дефект музеев. Это проблема театров, которые воспринимают музеи в первую очередь как пространство, как здание. Я не раз сталкивался с этим в отношении нашего проекта со стороны театральных людей. «Вы стоите там пустуете, а мы сейчас придем и все заполним прекрасным контентом». И это взаимное незнание, недопонимание.
Театр приходит в прекрасные залы музея, занимается там чем‑то своим безотносительно контента этих музеев.
Понятно, что мы смогли диагностировать ситуацию, и теперь с этим нужно работать. Но та разная темпоральность, о которой ты говоришь, она, с моей точки зрения, скорее преимущество подобного рода сотрудничества, чем препятствие. И эта разница существует не только между музеями и театрами. Она существует допустим, между музыкальными и драматическими театрами. И сотрудничество драматических режиссеров с музыкальными компаниями дает ужасно любопытные результаты. И продуктивность столкновения разных темпоральностей, мне кажется, не нужно доказывать — она вполне себе продемонстрирована в современном театре. Я надеюсь, что разница темпоральности музеев и театров тоже даст свои крутые результаты.
— Документальный театр давно работает с архивами, фактами, документами. Чем сейчас эта новая волна объединения отличается от того, уже освоенного принципа работы?
— Я надеюсь, что взаимодействие будет не только с документами, но и с носителями знаний об этих документах — с музейными сотрудниками, которые жизнь положили на изучение этих документов, обладают бесценной экспертизой. Когда театральный художник сталкивается не просто с чем‑то неизвестным и незнакомым, а с людьми, которые обладают знаниями в отношении этих документов, у него не будет возможности просто выразить свое детское любопытство, недопонимание, ужас, он будет каким‑то образом взаимодействовать с этим знанием. Мне кажется, это должно дать новое качество в сотрудничестве — нам предстоит еще понять, какое.
— А в спектаклях, которые скоро будут представлены на Theatrum 2019, уже прослеживается эта перемена? И еще: понятно, чем объединяются эти спектакли — а вот в чем они различны? Я так понимаю, что в основе программы принципиально разные опыты взаимодействия с музеем, с его пространством, с его экспозицией?
— Фестиваль действительно строился вокруг спектаклей, которые представляют не просто театр в пространстве музея, а театр, который работает с коллекциями — временными или постоянными. Это был отсекающий принцип, по которому мы сформировали эту мини-программу.
И еще один момент, который нужно обозначить: очень маленькое количество музейно-театральной продукции проходит тест на фестивальность — это не обязательно тест на развлекательность, или на масштабность, или на положительность эмоций. На фестивале могут быть продукты сложные, серьезные, трагические и так далее. Но фестиваль — это все равно опыт создания атмосферы вокруг чего‑то одного. А музейно-театральная продукция концентрируется на своих внутренних задачах. И вот этот коммуникационный позыв рассказать о своих задачах, пока еще недостаточно осмыслен, недостаточно выражен, с этим еще предстоит как‑то работать. И в этом отношении фестиваль действительно проявил какую‑то тенденцию, существующую сейчас.
— Я так понимаю, работать над этим начали уже в Вятском (Лаборатория Theatrum 2019 прошла в конце мая в историко-культурном комплексе «Вятское» в Ярославской области. — Прим. ред.).?
— Да.
— Как это все происходило?
— Там действительно был массовый интерес, довольно ободряющий для нас. Потому что мы запустили open call, вообще не понимая, кто придет к нам. У нас было порядка 130 заявок на 10 мест, и это, в общем, показало масштаб интереса к подобного рода сотрудничеству — для нас это важно.
Нам было важно отобрать заявки, которые имеют потенциал к реализации, когда есть команда соратников, способных вести этот проект до конца, которым необходим фидбэк со стороны профессионалов, работающих в музеях и в театрах, чтобы проект развивался, улучшался и в итоге стал той продукцией, на которую мы ориентируемся в нашей деятельности — профессиональной, интересной, содержательной.
Отбор производился коллективно, в экспертной комиссии были люди из музеев, из театров, менеджеры, художники. Разброс по темам, формам и степени проработанности получился довольно существенный — и это тоже послужило для нас ободряющим фактором. Потому что эксперты способны оценивать заявку на разном уровне. Иногда крутая концепция решает все. Иногда крутая команда решает все. Иногда степень проработанности решает все. Эксперты оказались открытые, любопытные и вообще ужасно доброжелательные — это было круто.
Затем мы вывезли победителей этого конкурса, участников лаборатории, в ретрит. У них не было никаких развлечений. Они погрузились в атмосферу работы над собственными проектами, сотрудничества с самыми крутыми профессионалами, которые работают в музеях и театрах, получили опыт современного театра, современного музея и одновременно опыт организации проектов.
— А кто там был?
— Художники, режиссеры. Куратором был Юра Квятковский, театральный режиссер. Были директора музеев, галерей, подборщики и программеры. Смотрите, в конце концов, наш сайт, там все нарисовано.
И все закончилось презентацией проектов. Существенной частью лаборатории были не только лекции, но и работы с кураторами команд, которые давали фидбэк, давали возможность командам доработать заявки, с которыми они заявились на лабораторию. Эти работы они представили в последний день в том же Вятском, где преподаватели и кураторы смогли оценить, насколько заявки эволюционировали, углубились, разрослись.
Любопытно, что участники смогли презентовать свои проекты, в том числе и в неконвенциональных местах. В Вятском, в разрушенных зданиях, на летней эстраде — это тоже добавило презентациям обаяния.
Еще одной, важной частью процесса оказалось то, что сам лабораторный процесс, в сочетании с презентациями заставил спорить о состоятельности лабораторного процесса в современном театре и музее. Сам формат лаборатории был поставлен под сомнение. И это для нас было ужасно важным инсайдом в процесс.
— В том плане, что формат лаборатории изживает себя?
— Нет. Ни у кого нет сомнения в том, что современный театр и музей находят какое‑то убежище от доминирующей формы спектакля или выставки в лабораторном процессе. Возникает вопрос о критериях оценки процессов, которые возникают в рамках лаборатории — как формируется современная процессуальность, чем диктуется? С прагматической точки зрения возник вопрос: нужно ли делать презентацию в конце? Или процессуальность сама по себе является тем, чем занимается современный музей и театр? Или все-таки нужно предоставлять результаты?
Вопросы процессуальности — ужасно проблемное поле для самых крутых художников, которые работают в современном театре и музее. Лаборатория стала прелюдией круглого стола (который пройдет 4 июня, в последний день фестиваля. — Прим. ред.), на котором, я уверен, все эти вопросы дальше будут обсуждаться. И нам интересно, о чем они поговорят на круглом столе. Прямо это интрига и саспенс.
— А можешь привести какие‑то примеры заявок?
— Был мощный проект, который работает с советским наследием Калининграда, — у этих ребят уже есть проект, который работает с его немецким наследием. Это сложносочиненная история, они организуют свою коллекцию не на основе того, что у них есть сейчас в распоряжении, а на основе тех смыслов, которые они способны из этих объектов вычленить как кураторы этого проекта. И объекты становятся триггерами для формирования нарративов, которые выходят за рамки даже уже существующей коллекции, меняют все пространство города. Они организуют его как променад между разными точками города с использованием объектов коллекции, которые у них сейчас формируются.
Есть яркий урбанистический проект. В Хабаровске есть огромный скелет кита в центре города. Я не видел этого объекта, судя по всему, это действительно городская достопримечательность, которая не задействована в городском художественном контексте. И вот есть попытка понять историю этого кита, как он появился в Хабаровске, — и связать ее с историей жителей этого города. Причем не только сторителлингом, там есть акустическое решение этого объекта. И это любопытно, это совершенно небанальный музыкальный и визуальный театр.
— Расскажи, как тебе кажется, чего в рамках проекта «Институт театра» уже удалось достигнуть, а к чему бы ты еще хотел стремиться?
— Институт театра возник как серия мастер-классов, которые организовывал фестиваль «Золотая маска» для профессионального сообщества. И когда я пришел в институт театра и начал заниматься этим проектом, мы начали думать о практической стороне обучения. Мастер-классов оказалось недостаточно, нужно было придумывать какой‑то формат, который бы позволил пробовать новый театр на практике. Нас интересовали какие‑то формы театра, которые пока существуют на начальном этапе. Формируются или придумываются, или переосмысляются.
Нам было важно давать возможности для неожиданных коллабораций людей, которые в обычное время чаще всего не сотрудничают в театре, но при этом могут найти взаимное преткновение друг в друге. Мы придумали формат лабораторий, который сначала, формировался в основном как коллаборация между профессионалами театра, как‑то между художниками и хореографами, между композиторами и режиссерами. Этот формат по-прежнему для нас является основным и рабочим.
В каждой лаборатории у нас есть куратор, который способен взглянуть на проблему глобально и объединить преподавательские и студенческие силы. Хотя студентами мы их не любим называть — у нас есть участники лаборатории, которые помогут эту проблему попробовать с разных сторон, найти разные возможности ее решения и работы с ней. Но проект разрастается, у него появляются новые форматы. Мы создаем академические разговоры, в которых опять-таки пытаемся найти язык для описания вновь возникающих тенденций в современном театре. У нас есть формат конференций — мы делаем конференцию фестивального менеджмента, чтобы понять, каким образом современный фестиваль формируется и какие задачи он решает.
У нас с этого года есть продюсерские интенсивы — то есть мы начали заниматься не только художественной составляющей театра, но и менеджерской, и продюсерской. В общем, мы растем. Институт театра — это проект. Это не жесткая структура, она реагирует на импульсы, которые нащупывает и видит вокруг себя. И чем больше импульсов, тем больше деятельность института театра.
Проектный формат создает возможность для этого, но он создает и ограничение. Потому что мы ограничены во времени, и у нас не возможности заниматься какими‑то долгоиграющими историями. И мы уже сталкивались с тем, что, когда дело доходит до лабораторий, которые занимаются, допустим, телом — это все требует другого времени: невозможно работать в рамках недельных, двухнедельных лабораторий, нужны месяцы. В общем, у этого формата есть плюсы и минусы. Мы, как мне кажется, максимально используем плюсы, осознаем минусы и находим все больше и больше партнеров, с которыми начинаем преодолевать рамки фестиваля, начинаем продолжаться во времени. В какую сторону это пойдет — покажет время. Идеи есть, их много.